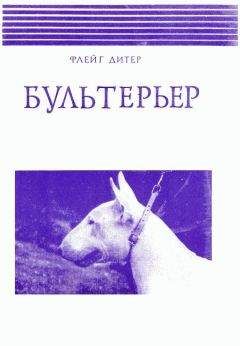Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]
Любой, даже начинающий сценарист знает, что нет абсолютно никакой возможности перевести на экран все то, что заложено писателем даже в маленьком рассказе, не то что в повести или романе. Что есть произведения (хотя бы знаменитый «Золотой теленок»), абсолютно не передаваемые средствами кинематографа. Что экранизация – это всегда создание совершенно нового произведения, со смещенными и даже порою искаженными акцентами. Что даже порою сценаристы снимают свое имя с титров фильма, ибо считают, что режиссер сделал совсем иное, чем было написано в тексте. Ибо слово и образ одновременно равны и не равны друг другу.
Погружаясь в прозаическое или стихотворное произведение, ребенок приучается к чрезвычайно важному делу: умению переводить чужие слова на язык образов (зрительных, эмоциональных и иных). Чтение активно формирует способность левого полушария к абстрагированию, определяемому речью. А кроме того, прочтенное слово (как, естественно, и услышанное) возбуждает еще одну способность – внутренне, умственно представлять по слову образ, то есть перекодировать абстракцию в конкретность. Этот второй процесс начисто отсутствует при рассматривании картинки на экране. В итоге «читающий человек» формируется в более интеллектуальную личность, нежели тот, кто всецело отдается зрительным впечатлениям без их обсуждения и осмысления в словах, то есть на уровне абстракций.
Неумеренное увлечение телевидением наносит большой ущерб развитию человека, особенно становлению личности ребенка. «Как смотреть телевизор», «Опасный телеэкран», «Школьник у телевизора», «Облученные телевизором» – заголовки статей советских газет середины 80-х годов ХХ века. Уже тогда люди отрешились от восторгов по поводу телезрелища без границ.
В самом деле, кинематограф и театр дает зрителю определенную, строго дозированную зрелищную информацию. Потом, возвращаясь домой, человек обсуждает увиденное, осмысляет, даже если делает это «про себя».
Телевидение же гонит вперед своих взмыленных лошадей, и нужно обладать очень большой силой воли или очень плохо относиться к показываемому, чтобы повернуть выключатель. Опрос 2700 американцев показал: 90 процентов их неправильно истолковывают даже незамысловатую рекламу или детективный сериал. Уже через несколько минут после просмотра программы «телезрители не могли ответить на 23...36 процентов вопросов о ее содержании». Исследователи Южнокалифорнийского университета на три недели посадили группу из 250 одаренных учеников начальных классов к телевизорам. «Тесты выявили явное снижение после этого всех творческих способностей», – сообщил журнал «Ридерс дайджест». Французские педагоги отмечают «растущее обеднение словарного запаса учащихся»: они не понимают многих слов литературного языка, свойственного книгам. Вывод: «Успехи в школе обратно пропорциональны количеству часов, проведенных перед телевизором».
Итак, нужна культура общения с телеэкраном, потому что изгнать его из жизни и невозможно, и нерационально. Ведь гигантское множество разнообразных ситуаций с колоссальным количеством предметов мы познаем именно благодаря телевидению. А значит, как ни парадоксально, расширяем тем самым масштабы слов.
Ведь когда искусственный язык пытается дать определение слову «стул», он безуспешно жаждет перечислить формальные признаки предмета. А естественный язык определяет в первую очередь (и примеров этому можно тысячами брать из словарей, хотя бы словаря Даля) функцию: «Род мебели для сиденья, со спинкой (на одного человека)». Вот она, ситуация.
Кому-то такой подход может показаться уж очень детским: «Стул – это, то, на чем сидят, стол – это то, за чем едят...» Но опять же лингвисты называют денотатами любые реальные или воображаемые объекты, которые могут иметь обозначения в языке, причем «денотат <...> не есть конкретный телесный предмет, а ситуационное (выделено мною – В.Д.) представление о нем».
Именно в силу ситуационности естественная речь называет стулом и настоящий стул, с мебельной фабрики, и какой-нибудь ящик или камень, да вообще любое подходящее место для сидения, лишь бы зрительная (то есть разворачивающаяся в пространстве и во времени) картина позволила это сделать.
– Извините! – слышу я возражения. – Есть масса слов и выражений, для которых не найти зрительного образа: «постоянная Планка», «дифференциал», «спин электрона» и тысячи иных терминов науки!
Верно, таких слов предостаточно. Но мы уже говорили, что даже физики-теоретики, изъясняющиеся на языке абстрактнейших формул, стремятся переводить свои «работающие» абстракции в «неработающие» зрительные, чувственные модели. Вспомогательный зрительный образ бывает совершенно необходим для обучения, и «спин» превращается в быстро вращающийся игрушечный волчок. В книгах по высшей математике, предназначенных для начинающих, читатель встречаетмся со множеством чертежей, единственная цель которых – быть мостиком между абстракцией и чувством.
Абстрактное мышление немыслимо без слов. «Лингвистическое превосходство левого полушария имеет, повидимому, анатомическую основу», – читаем мы в авторитетной книге «Мозг». Действительно, у большинства певчих птиц левая половина мозга более важна для пения; у японских макак, живущих в высокогорье и легко переносящих снежные зимы, левое полушарие является ведущим при восприятии криков, которыми эти необычайно говорливые обезьяны обмениваются; есть и другие данные в пользу того, что существует сильная связь между способностью к восприятию и «производству» звуков и левым полушарием как механизмом. Так что когда произошел качественный скачок и появилось абстрактное мышление как высшая, чисто человеческая форма мышления, не видится ничего удивительного в том, что пристанищем этого мышления стало именно левое полушарие.
Качественные скачки возникают непременно на основе каких-то количественных изменений некоторой материальной основы. А о ней Фридрих Энгельс (несмотря на свой марксизм, широко образованный человек и отличный популяризатор науки) писал: «Нам общи с животными все виды рассудочной деятельности: и н д у к ц и я, дедукция, следовательно, также абстрагирование <...> анализ незнакомых предметов (уже разбивание ореха есть начало анализа) синтез (в случае хитрых проделок у животных), и, в качестве соединения обоих, эсперимент (в случае новых препятствий и при затруднительных положениях). По типу все эти методы – стало быть, все признаваемые обычной логикой средства научного исследования – совершенно одинаковы у человека и у высших животных. Только по степени (по развитию соответствующего метода) они различны».
А современный нам нейрофизиолог пишет: «Основные структуры головного мозга так схожи, например, у кошки и человека, что нередко не имеет значения, чей мозг изучать».
Левая половина мозга, ходом эволюции сформированная как аппарат для зрительно-абстрактных образов, оказалась подготовленной для возникновения в ней речевого нейрофизиологического механизма.
А тесная связь между речевыми расстройствами и зрительными агнозиями заставляет внимательно отнестись к предположению о возможной идентичности нейронных структур, занятых обработкой зрительных и речевых сигналов в высших отделах мозга – заднетеменной и нижневисочной коре.
Очень интересны в этой связи данные о влиянии речи на развитие способности видеть, данные, полученные сотрудниками Гарвардского университета Майклом Маккоби и Ненси Модиано. Они изучали в Гренландии и в США, как воспринимают мир дети зрительно, как связываются у них слова и образы. В экспериментах участвовали школьники и их сверстники, не имеющие возможности ходить в школу. Оказалось, что у этих групп различаются не только общий кругозор, но и зрительные навыки: «Дети, не ходящие в школу, даже самые старшие по возрасту, не умели так хорошо узнавать и называть картинки, как это делали первоклассники в городе и деревне.Это неумение опознать картинки, несмотря на знакомство с изображенными предметами, само по себе вызывает интерес», – пишут исследователи.
И выдвигают такую гипотезу: обучение (и связанная с этим активизация речевой функции) «разрушает естественное единство перцептивного мира или по крайней мере навязывает ему иную структуру», то есть заставляет подходить к действительности аналитически и как-то по-иному воспринимать предметы. Речь, как полагают Маккоби и Модиано, оказывает влияние на зрительные абстракции и зрительные признаки, – впрочем, об этой связи речи и зрения говорит вся история человечества.
Бывали, правда, люди, подобно философу Этьену Джилсону, утверждавшие, что «рисовать словами столь же невозможно, как говорить рисунками». Странно, но он почему-то забыл об иероглифах и о том, что писатели именно с помощью слов возбуждают в нашем сознании картины, изумительные по силе и красоте.